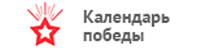|
Вадим Кожевников. Щит и меч (16+)
Присылайте аудиозаписи фрагментов книг о Великой Отечественной войне и получайте баллы для рейтинга вашего отряда: Рейтинг патриотических отрядов - 2025.
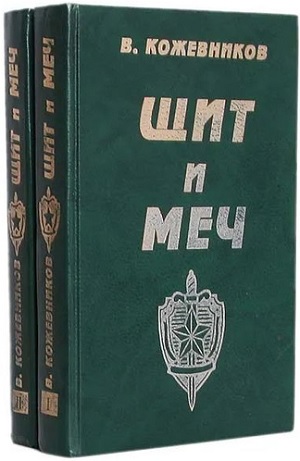 |
«Щит и меч» - роман Вадима Кожевникова, который является данбю уважения смертельно опасной работе советской разведки в годы Второй мировой войны. «Он принадлежал к тому поколению советских юношей, сердца которых были опалены событиями в Испании, на которых трагические битвы испанских республиканцев и интернациональных бригад с фашистскими фалангами Франко, Муссолини, Гитлера оставили неизгладимый след, вызвали непоколебимую решимость до конца отдать свою жизнь борьбе с фашизмом, победить его и уничтожить». - Это сказано о главном герое романа, Александре Белове. Вадим Кожевников с болью в душе говорил о советских разведчиках: «Не знаю, из какого металла или камня нужно изваять памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа» Книга воспитывает. Она ярко высвечивает вопросы высокой нравственности одних, и безнравственность, низость, подлость других. Превозносит подвиг разведчиков и образ советского человека, демонстрирует сильный и твердый характер главного героя, указывает на многочисленные "шкурные интересы" тех, кто был на стороне нацистов. |
Рекомендуемые фрагменты.
"В Центре высоко ценили информацию, поступавшую от Александра Белова. Но его откровенные, подробные отчеты не всегда вызывали одобрение.
На оперативных совещаниях некоторые товарищи отмечали, что Белов бывает невыдержан, склонен к импровизации, допускает в работе опасные отклонения и, увлекаясь побочными операциями, несвязанными непосредственно с его заданием, нередко нарушает дисциплину разведчика. И, пожалуй, те, кто говорил так, были правы.
Барышев, отвечая им, соглашался с тем, что Белов не всегда поступает в работе столь осмотрительно и целеустремленно, как поступал бы на его месте более зрелый и опытный разведчик. И даже сам отмечал оперативную легковесность, недостаточно всестороннюю продуманность некоторых действий своего ученика.
Соглашался Барышев и с тем, что Белов, привлекая для выполнения тех или иных задач Зубова и его группу, не умеет понастоящему руководить ею. Работа группы заслуживает серьезной критики. Действия Зубова не всегда достаточно обоснованы и грамотны, а это ставит под удар не только Белова, но и самцу группу. Говоря об этом, Барышев неожиданно для всех улыбнулся и заявил решительно:
– Но какие бы ошибки не совершал Саша Белов, его работа меня пока что не столько огорчает, сколько радует. Обратите внимание: в своих отчетах он никогда не хвастает, хотя было чем похвастать, и каждый раз сам же первый упрекает себя. Пишет: «Не хватило выдержки, ввязался в порученную Зубову операцию освобождения заключенных». Ну как бы сбегал парень на фронт.
Барышев подумал секунду, сказал проникновенно:
– Вот мы отобрали для работы у нас самую чистую, стойкую, убежденную молодежь. Воспитывали, учили: советский разведчик при любых обстоятельствах должен быть носителем вычсшей, коммунистической морали и нравственности, тогда он неуязвим.
Но когда молодой разведчик попадает в тыл врага и оказывается там в атмосфере человеконенавистничества, подлости, зверства, – что же, вы полагаете, его душу не обжигает нетерпеливая ненависть, ярость? И чем больше боли причинят ему ожоги, тем, значит, правильнее был наш выбор: хорошо, что мы остановились именно на этом товарище. А закалка этой болью – процесс сложный, продолжительный. И чем острее чувствует человек, тем сильнее должен быть его разум, чтобы управлять чувствами. У людей, тонко чувствующих, обычно и ум живее и сердце горячее. Самообладание – это умение не только владеть собой, но и сохранить огонь в сердце при любых, даже самых чрезвычайных обстоятельствах. А хладнокровие – это уже совсем другое: порой это всего лишь способность, не используя всех своих возможностей, оставаться в рамках задания.
Не все согласились с Барышевым. Но, поскольку Барышев лучше других знал характер своего ученика, ему поручили при первой же возможности связаться с ним. Следовало обстоятельно проанализировать действия Белова в тылу врага. После этого предполагалось разработать для него новое задание, исходя из условий, в каких Иоганн Вайс успешно продвигался по служебной лестнице абвера. Барышев, как никто зная Сашу Белова, давно был убежден, что в тылу врага первой и основной опасностью для его ученика окажутся душевные муки. Его будет терзать мысль, что он мало сделал для Родины, не использовал до конца все представившиеся тут возможности, и эта неотвязная мысль толкнет его на опрометчивые, поспешные шаги навстречу опасности, которую следовало и должно было хладнокровно избегать. Но в битве между разумом и чувством победоносная мудрость одерживает верх далеко не в начале жизненного пути. Не из готовых истин добывается она, а ценой собственных ошибок, мук, душевных терзаний, и, сработанная из этого самого сокровенного материала, мудрость эта не приклеивается легковесно к истине, но навечно спаивается с ней, становится сущностью человека борца, а не просто существователя на земле.
Иоганну очень хотелось участвовать в спасении приговоренных к казни немецких военнослужащих. И не только потому, что эта, как выразился Зубов, «красивая», благородная операция, что этот подвиг боевиков должен был во всеуслышание заявить здесь, во вражеском логове, о бессмертии пролетарской интернациональной солидарности. Просто Иоганна постоянно жгла, томила неутоленная потребность к непосредственным действиям против врага.
Он отлично понимал, что эта жгучая потребность свидетельствует не о стойкости, а, скорее, о слабости, знал, что его участие в боевых действиях, быть может, помешает решению тех главных задач, которые перед ним поставлены.
Он понимал также, что если погибнет в бою, тем, кто будет заново проходить по его пути, придется в тысячу раз труднее: ведь время, необходимое для длительного, постоянного «вживания» во вражеский стан, уже необратимо утрачено. И вовсе не потому его жизнь бесценна сейчас, что он, Александр Белов, – личность неповторимая, одаренная качествами, которыми другие не обладают. Напротив, он хорошо знал, что в тылу врага действуют, и порой даже более успешно, чем он, талантливые советские разведчики, на счету у которых не одна блистательная операция.
Все дело в том, что он, Александр Белов, такой, какой он есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, достиг высотки, на которую его нацелили по карте битвы с тайными службами врага. И если он уйдет с нее, враг снова сможет наносить отсюда свои удары. Значит, волей обстоятельств его жизнь – это не просто одна жизнь, а много человеческих жизней, и поэтому он не имеет права распоряжаться ею, как своей личной собственностью.
Все это так. И сознание этого придавало душевную стойкость Иоганну Вайсу. Но и она была не беспредельна.
Ему приходилось терпеливо выслушивать бесконечные рассуждения своих сослуживцев о том, что немцам самой биологической природой предназначено быть «новой аристократией крови», что немец – это «человекгосподин, наделенный волей к власти и сверхвласти». Они упоенно превозносили смерть на войне. Всемерно заботясь о сохранении собственной жизни, чужие жизни они и в грош не ставили.
Умерщвление людей других национальностей они называли «оправданной целью сокращения народной субстанции». И газовые камеры, где душили людей, были оборудованы смотровыми глазками, для того чтобы нацисты, приникая к ним, могли сдать публичный экзамен на бесчеловечность.
Когда Гитлер провозгласил, что Германия либо сделается владычицей мира, либо перестанет существовать вообще, его слова вызвали только чванливый восторг. А ведь они означали, что гитлеровцы не остановятся ни перед чем, даже перед истреблением самого немецкого народа, и будут воевать до последнего своего солдата.
Слушая своих сослуживцев, Иоганн каждый раз с отчаянной ненавистью, с яростью убеждался, что рассуждения эти объясняются вовсе не трусливым раболепием перед чудовищными фашистскими догмами, уклонение от которых беспощадно каралось: в основе их лежало нечто еще более отвратное – уверенность, что они составляют сущность германского духа.
И как ни привык Белов маскироваться под делового, но ограниченного одной только служебной сферой абверовца, с какой бы ловкостью ни уклонялся от кощунственных «философствований» на подобные темы с другими сотрудниками, – все это давалось ему путем огромного насилия над собой – ему все время приходилось мучительно сдерживать себя. Это строгое подчинение Белова Иоганну Вайсу походило иногда на добровольное заточение в тесной одиночной камере. Это было невыносимое духовное, замкнутое одиночество. Белов никому, даже Зубову, не говорил о своих муках. Но самому себе признавался, что сможет продолжать свой длительный подвиг уподобления наци только в том случае, если ему удастся хотя бы изредка вырываться из духовного заточения и, пусть хоть на краткое время, становиться самим собой.
Понятно, что ему очень хотелось участвовать в спасении приговоренных к смерти немецких военнослужащих. Это дало бы ему возможность как бы душевно очиститься. А он тем сильнее нуждался в таком очищении, чем удачнее шли в последнее время его дела в абвере, чем больше упрочалась за ним среди сослуживцев репутация истинного наци.
Но как бы там ни было, он отказал себе в праве участвовать в предстоящей операции."
Кстати, как вы оценивали поражение немцев под Сталинградом? – спросил он.
– Я боялся, что выдам себя, не смогу скрыть радость и провалюсь на этом.
– Нет, с точки зрения немца.
– Ну что ж, – нерешительно сказал Иоганн, – как величайшее поражение вермахта, полный провал плана «Барбаросса».
– А с политической стороны?
– Точно так же.
– А вот, представьте, гитлеровская пропагандистская машина использовала катастрофу под Сталинградом в ином плане. Превратила ее в пропагандистскую акцию, обращенную к реакционным правящим кругам союзников.
Вы знаете, Гитлер, потрясенный поражением, не мог в эти дни выступать, его речь прочел по радио Геринг. Слышали эту речь? Не пришлось? Напрасно! Она вся была обращена к Уолл стриту и Сити. Гитлер расписывал себя как единственного спасителя западной цивилизации от большевитского варварства. А Геббельс, в дальнейшем развивая эту мысль, объявил: «Ясно, господа, что мы неверно оценивали военный потенциал Советского Союза! Сейчас он впервые открылся нам во всей своей кошмарной величине. Сталинград был и остается великим сигналом тревоги... Осталось лишь две минуты до двенадцати», – то есть до полного поражения Германии.
А этот трехдневный траур после ликвидации окруженных под Сталинградом войск? Вы понимаете, зачем это? Превратить гибель своих солдат в орудие пропаганды, чтобы напугать правящие верхи союзников мощью Советской страны. Помочь реакционным кругам Америки и Англии вызвать в своих странах волну антикоммунизма и подготовить таким образом почву для вероломного сепаратного мира. И, по нашим данным, действия гитлеровской пропаганды оказались небезуспешными. Тайные дипломаты союзников чрезвычайно оживились. Аллен Даллес перекочевал в Берн с целым разведывательным штабом, и множество посланцев немецких разведслужб, с которыми у Даллеса старые доверительные отношения, протоптало к нему тропы.
– Да, – сказал Вайс, – я это знаю.
– Учтите, – предупредил профессор, – союзники заслали в Германию целую армию разведчиков. И знаете, чем они сейчас занимаются? Изучают настроения германского народа, силы Сопротивления. Но вовсе не для того, чтобы помочь движению Сопротивления хотя бы оружием. Нет. Хотят выяснить, не будет ли это движение препятствовать намерениям союзников сохранить Германию после ее поражения как иммериалистическую державу, враждебную Советскому Союзу. По имеющимся у нас данным, Даллес озабочен тем, чтобы вермахт и после поражения сохранил силы, способные подавить революционное движение в стране.
Значит, Даллес представляет те американские круги, которые сейчас разрабатывают не столько планы наступления на втором фронте, сколько планы подавления революционных сил германского народа после поражения Гитлера и, как болтал ваш подопечный американский разведчик, хотят сменить вывеску Гитлера на другую. Ненависть американского и английского народа к Гитлеру настолько велика, что Даллес, кажется, готов содействовать покушению на его жизнь, чтобы потом договориться с той же самой фашистской фирмой, но действующей уже под иной вывеской. И не исключено, что Геринг, Геббельс, Гиммлер были бы счастливы подарить рейху свое имя для этой цели.
– Да, – задумчиво согласился Вайс. – Все это, пожалуй, так...
Слово «пожалуй» – плохой слово, – сердито прервал его профессор. – Я говорю, опираясь на факты и доказательства. И наша с вами задача – представить в Центр документы, с исчерпывающей и неопровержимой полнотой свидетельствующие, что между союзниками и оппозиционными группами рейха ведутся переговоры о сепаратном мире. Как видите, сейчас мы с вами должны поработать на Германию. На будущую Германию. Ну как, не возражаете?
Вайса оставили в покое, потом однажды его разбудили, надели рубаху с отрезанным воротом, завязали на спине руки и повели. Сначала казнили двоих. Потом еще двоих. И когда Вайс и стоящий рядом с ним скрюченный, очевидно с поврежденным позвоночником, человек подняли уже головы, чтобы на них надели мешки, их обоих развели по камерам.
Потом еще и еще раз Вайса водили на казнь. Он возвращался в свою камеру живым, но с таким ощущением, что его уже трижды казнили.
И после этих трех несостоявшихся, но пережитых казней Иоганн впал в состояние безразличия ко всему. И когда он уличил себя в этом, из презрения к себе самому решил снова стать самым примерным заключенным, чтобы волей к действию перебороть давившую его свинцовую тяжесть пережитой смерти.
Вновь в камере все блестело, вновь Вайс занимался гимнастикой, полдня уходило на многокилометровые путешествия, во время которых он мысленно перечитывал любимые книги или разыгрывал в уме шахматные этюды.
Счет дням Вайс вел по количеству мисок с баландой, которые он получал. Ибо здесь, в камере, не было ни дня, ни ночи. С пронзительной яростью светила стоваттная лампа, казалось выедая глаза жгучим, как серная кислота, светом. Но после того, как посещение камеры Вайса этими двумя лицами прекратилось, стоваттную лампу заменили совсем слабосильной, красновато тлеющей двумя волосками. И в камере стало темно, как в яме, и холодно, как в яме. Очевидно, сильная лампа согревала воздух и не давала возникнуть непреодолимому ощущению озноба, который теперь беспрестанно мучил Иоганна.
Смертный приговор продолжал висеть над ним. Но он приучил себя не думать об этом.
На каждый следующий день он давал ебе задание. Например, пройти пешком из Москвы до Баковки и снова вернуться в Москву, – значит, сорок шесть километров, сначала мысленно смотреть на правую сторону, а на обратном пути – на левую.
Он придумывал сложнейшие гимнастические упражнения, математические задачи.
Одно время он колебался: не уступить ли? Рассказать все, что ему известно о тайной дипломатии Шелленберга, и этим купить хотя бы временную свободу. Но, тщательно взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу: если его не казнили до сих пор, то только потому, что не удалось вырвать из него никаких сведений. А когда он станет пустым, его уничтожат, как уничтожают использованные пакеты от секретных документов. Кроме того, очевидно, его стойкость внушила гестаповцам мысль, что в политической секретной службе он более важная фигура, чем они до сих пор предполагали.
А самое главное – над Шелленбергом и Мюллером стоит Гиммлер, и Шелленберг действует по поручению Гиммлера. И если Мюллер использует сведения Вайса против Шелленберга, об этом будет знать Гиммлер. Он помирит Шелленберга с Мюллером, и оба они после примирения (а может быть, и до него) постараются расправиться с Вайсом. Конечно, он мог бы увильнуть от их мести, уйти в подполье, например, в группу Зубова, но это значит погубить карьеру Иоганна Вайса, а чтобы проникнуть на место Вайса, многим советским разведчикам придется пойти на смертельный риск. Нет, надо бороться за свою жизнь во имя сохранения жизни Иоганна Вайса.
Даже тюремные надзиратели прониклись уважением к этому заключенному, приговоренному к смерти, которыйц с таким упорством сопротивлялся физическому и психическому разрушению, казалось неизбежному в условиях, когда каждый новый день может стать последним днем.
Камера Вайса блистала чистотой, которую он наводил с редким усердием.
Он был дисциплинированным заключенным, бодрым, приветливым и никогда не терял при этом чувства собственного достоинства.
Постепенно Вайсу удалось сломить двух надзирателей – старых профессионалов тюремщиков, у которых заключенные вызывали меньшее любопытство, чем кролики в клетках.
На несколько дней Они почувствовали к Вайсу нечто вроде расположения, как к образцовому заключенному, и стали оказывать ему мелкие услуги. Вайс получил возможность читать книги. В углубленном, отрешенном чтении он обретал душевное равновесие, способность наблюдать за собой как бы со стороны. И когда он обрел эту способность, он проникся к себе доверием, спокойной уверенностью в том, что не утратит теперь контроля над собой ни при каких обстоятельствах.
В конце июля за Иоганном внезапно пришли надзиратели. Он подумал: «Поведут на казнь». И удивился, что не впадает в прострацию и не испытывает ни содроганий ужаса, ни даже желания думать о чем нибудь значительном в эти последние минуты. Должно быть, он так устал размышлять о смерти, что разучился страшиться ее.
...с верхней койки Вайс услышал изумленный голос Гуго Лемберга:
– Мой бог! Вы живы?
Вайс улыбнулся Гуго. Тот спрыгнул с койки на пол, обнял его.
– Не могу сказать, что рад видеть вас здесь, но солгал бы, если бы скрыл свое чисто эгоистическое удовольствие от нашей встречи, – признался Иоганн.
– Вы молодцом держитесь!
– А что мне еще остается?
– Вы знаете, что произошло?
Вайс покачал головой.
Гуго стал шептать ему на ухо:
– Помните полковника Штауфенберга, ну, того, без руки, вы познакомились с ним у меня?
Вайс кивнул.
– Полковник совершил покушение на жизнь Гитлера, но неудачно, бомба взорвалась, а Гитлер спасся. Говорят, он при этом произнес историческую фразу: «Ох, мои новые брюки – я только вчера их надел!»
Лицо Гуго дергалось, глаза блестели, зрачки были расширены, он истерически рассмеялся.
– Может, дать вам воды? – спросил Вайс.
– Нет, не надо. – Гуго удержал Вайса и зашептал, задыхаясь: – Вы не представляете все той бездны предательства, трусости, которая открылась в этом заговорое против Гитлера! – Произнес с отчаянием: – А вот я не успел застрелиться, как другие. И теперь меня повесят. Повесят, да?
– А Штауфенберг?
– Его расстреляли вместе с прочими во дворе, при свете автомобильных фар. Расстреляли те, кто сразу же изменил делу, узнав, что фюрер жив. Расстреляли еще до прибытия эсэсовцев, чтоб замести за собой следы, а теперь некоторые из тех, кто расстреливал, тоже здесь – вон один из них лежит на койке. – Крикнул исступленно: – Все погибло, Вайс, все! – Помолчал. Потом сказал хриплым голосом: – Последние слова Штауфенберга перед расстрелом были: «Да здравствует вечная Германия!» – Спросил с надеждой: – Но вы, возможно, заметили – мои взгляды отличались от воззрений Штауфенберга? «Да здравствует великая Германская империя!» – вот что бы я крикнул, будь я на его месте.
– Очевидно, вам еще представится такая возможность, – сдержанно сказал Вайс, поняв, что даже перед лицом смерти Гуго Лемберг считает должным подчеркнуть отличие своих политических позиций от позиций Штауфенберга.
...
Гуго Лемберг сказал Вайсу, что центральная группа заговора до конца 1943 года была против убийства Гитлера – из опасения, что это развяжет антифашистскую борьбу широких масс. Заговорщики лишь стремились добиться отставки фюрера, чтобы придать перевороту характер законной смены главы рейха. К тому же Даллес рекомендовал связанным с ним представителям заговорщиков не предпринимать никаких действий до того, как армия союзников высадится в Европе.
Покушение на Гитлера должно было совпасть с высадкой союзников. Новое правительство Германии снимет войска с Западного фронта. Армия союзников, оккупировав Германию, сама подавит возможность революционного антифашистского восстания. Таким образом, войска вермахта будут освобождены для контрудара по наступающей Советской Армии. Все силы будут брошены на это.
– Но полковник, например, – с усмешкой сказал Гуго, – был противником капитуляции Германии перед США и Англией. По его мнению, она могла быть воспринята как общее военное поражение Германии. Он был и против оккупации страны англо американскими войсками: подавить антифашистские силы должна, по его мнению, сама германская армия, внушив таким способом народным массам надлежащее уважение к новому германскому правительству. Наивность солдафона! – насмешливо заключил Гуго.
– Разве? – усомнился Вайс.
– Безусловно. Дело в том, что нам, военным, с самого начала следовало опереться на наиболее влиятельные силы Германии, тогда наш путч имел бы все необходимые гарантии.
– Что же это за силы?
– Промышленные круги рейха, – сказал Гуго. – Но, увы, многие из этой среды были против смены Гитлера. Они хорошо помнили, как решительно он в свое время расправился с коммунистическим движением. И с какой смелостью и последовательностью осуществил полное подчинение сил нации экономическим интересам магнатов промышленности. Кроме того, – понизил голос Гуго, – мне кажется, до сведения Гиммлера дошло, что некоторые наши генералы колебались, признать ли его новым фюрером рейха или не признать. А ведь им было известно, что та кандидатура имела решительную поддержку со стороны правящих кругов США и Англии. И я предполагаю, что если бы покушение на Гитлера прошло успешно, Гиммлер незамедлительно обрушил бы на большинство участников заговора всю мощь карающих сил СС с гестапо.
– Значит, заговор безнадежен?
– Нет, почему же? – угрюмо возразил Гуго. – Если бы, как предлагал Штауфенберг, мы объединились с широким демократическим фронтом, возможно, все было бы иначе. Но я не за т а к у ю Германию, я противник такой Германии.
– А немецкий народ какую предпочел бы Германию?
– Народ только тогда надежный фундамент для здания государства, когда он прочно утрамбован сильной властью. – Широко обведя рукой нары, на которых лежали заключенные, Гуго со злой насмешкой заявил: – Если бы сейчас здесь вдруг оказался русский коммунист, представляю, как бы он злорадствовал.
– Почему же? – спросил Вайс.
– Потому, – ответил Гуго, – что русским нужен Гитлер как ненавистный символ самой Германии, как мишень. А мы не смогли лишить их этой мишени...
– Наивно! – сказал Вайс. – Вы хотели сменить фюрера Гитлера на фюрера Гиммлера. Мишень же Советской Армии – немецкий фашизм. Вы сами это отлично знаете из перехватов заявлений советского правительства.
– Да, пожалуй, – уныло согласился Гуго. – Действительно, больше всего мы боялись не того, что верные Гитлеру части СС могут уничтожить нас, а того, что убийство Гитлера будет воспринято как сигнал к революционному восстанию. Мы боялись и того, что советские войска нанесут окончательное поражение нашей армии прежде, чем американские и английские части начнут продвигаться по нашей территории.
С тонущего судна Третьей империи кидали в пучину войны людей, как сбрасывали в древние времена из трюмов рабов, если корабли преследовал флот страны, борющейся с работорговцами.
Это были конвульсии Третьей империи. Фашизм ставил под ружье тех немцев, которые по старости или по молодости не могли пополнить поредевшие ряды вермахта: отряды фольксштурма были слишком рыхлой затычкой для отступающих армий. И, погибая, эти немощные старики и неоперившиеся юнцы не знали, что фюрер скажет о них с ненавистью и презрением: «Если немецкий народ оказался таким трусливым и слабым, то он не заслуживает ничего иного, кроме как позорной гибели... Нет необходимости в том, чтобы обращать внимание на сохранение элементарных основ жизни народа. Наоборот, лучше всего эти основы уничтожить».
Система противовоздушной обороны была практически упразднена: отряды авиации, зенитной артиллерии и службы наблюдения отправляли на Восточный фронт. И «летающие крепости» американцев, «галифаксы» и «ланкастеры» англичан почти беспрепятственно сваливали на города Германии свой смертоносный груз. Спасательные отряды и пожарников отправили на Восточный фронт еще раньше.
Проезжая по разбомбленным улицам Берлина, Иоганн снова и снова видел, как советские военнопленные, работая в дыму и пламени, выносят детей, женщин, стариков из под каменных развалин.
Черные от копоти, казалось, обугленные, эти люди бережно, как величайшую на земле драгоценность, выносили на руках раненых и ушибленных при обвалах детей. И дети не хотели разжимать ручонок, обнимающих тощие шеи своих спасителей, будто не было у них теперь на свете ничего ближе, будто только эти люди могли защитить их от ужаса и страданий.
Остановив однажды машину у полуобвалившегося дома, Иоганн увидел рыдающую женщину, у которой опаленные волосы осыпались с головы, как пепел. Она простерла к пленным обожженные руки и осуждающе кричала:
– Когда же ваша армия придет? Когда? Боже, скорей бы!
И один из пленных успокаивал по немецки:
– Да придут, скоро уж... – Оглянулся на своих, сказал по русски: – Слыхали? Выходит, мы же виноваты...
– Я не понимаю! – воскликнула женщина.
Пленный попросил по немецки:
– Не надо кричать, фрау, вы же видите, что мы заняты.
Женщина сквозь рыдания промолвила:
– Почему вы нас спасаете?
– Вы люди, и мы люди! – сказал военнопленный.
– А потом нас всех в Сибирь?
Пленный улыбнулся глянцевито блестящим от заживших ожогов лицом.
– Нет, – сказал он. – Нет. Ваш дом – ваша земля. Наш дом – наша земля. И всё. Мы не фашисты...
Контакты ВПК "Севастополь":
- Эл. почта: sev@vpk-sevastopol.ru
- Тел.: +7 (912) 61-22-914 - Дерендяев Александр Владимирович
- Страничка "ВКонтакте": vk.com/vpk_sevastopol
- Уроки ВПК "Севастополь" на RUTUBE
|
|
|